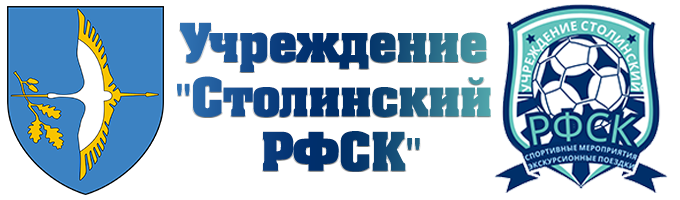Городок Давыдов
Этот древний город встретит вас без суеты. Сплошь уставленные деревенскими домиками улочки: их здесь большинство. В каждом дворике – царский палисадник, в каждом огороде – маленький цветочный базар. Всюду – тихая «музыка» размеренности и покоя, которая вводит в заблуждение непосвященных. Но стоит пройти от окраины до центра – и история настигнет вас, как речная волна своевольной Горыни. Вас накроет с головой событиями 7—10-вековой давности.
Центральная площадь. Железный князь-воин железным взором смотрит поверх домов – туда, где течет Горынь. Острый подбородок и острое копье в руке – внук Ярослава Мудрого, один из Рюриковичей, Давид Игоревич никогда не был былинным героем. Скорее, наоборот. Лишенный русскими князьями наследной отцовской земли на Волыни, он вошел в историю своим коварством, необузданным нравом, корыстолюбием и междоусобными войнами. Землю в итоге получил, но совсем не ту, о которой мечтал. Здесь, в Погорынье, ему суждено было основать город, который вот уже 908 лет хранит в своем названии его имя. Городок. Городок Давыдов. Давид-Городок.
Сто метров от площади влево – и указатель выводит к Замковой горе. Вот тут когда-то был въезд в замок и подъемный мост. А тут ров, давно засыпанный. Под моими ногами хрустят камни оборонительного вала Верхнего замка 11—12-го века, с которого хорошо видна пустынная Горынь. Сейчас река не очень широка: за прошедшие столетия она заметно обмелела и отошла от горы на добрых сто метров. А было время — волны ожесточенно бились о склоны замчища. Рядом была пристань, а позже и судоверфь. Жизнь не знала остановок ни днем, ни ночью.
По реке проходила важнейшая магистраль Волынско-Полесского региона – составная часть пути из Варяг в Греки. И на веслах, и под парусами здесь круглые сутки шли купеческие лодки из Германии и Польши, Москвы и Балтии. Какая только иностранная речь не звучала на городокской пристани… Сюда везли меха, ткани, специи и предметы роскоши. Отсюда – выделанные шкуры, ремесленные изделия, воск, мыло и всевозможную сельхозпродукцию. Воины, ремесленники, оружейники и челядь жили за стенами укрепленного деревянного замка: растили детей и отражали атаки неприятеля, — рассказывает местный историк и краевед Геннадий Босовец. – А последних хватало: эти валы помнят и татар, и московских стрельцов… Не раз горели и начинали все с нуля. Но выстояли. Напоминание о тех бурных событиях – гранитный камень с надписью: «Отсюда есть пошел городок Давыдов». А по сути, укрепленный пограничный замок на западных рубежах Руси.
Он всегда был свободным, рано получил Магдебургское право и навсегда вселил в местных жителях гордость за то, что они вольные мещане. Ремесло и торговля – два кита, на которых во все времена держалась слава Давид-Городка. Еще в 1480 году здесь была своя таможня. Коммерческая жилка и гибкость ума – вот то, что отличало городчан при князях Городокских, и при Ярославовичах, и при королеве Боне, и при Радзивиллах… Эта земля полнилась чудесами и манила к себе чужестранцев. Здесь по сей день стоит Юрьевская церковь 17-го века, срубленная без единого гвоздя. И Свято-Казанская, не закрывавшаяся с 1913 года ни при каких режимах. Этот единственный город, где каждую зиму — с незапамятных времен и до сего дня — проводится праздничный карнавал. И если бы только это…
Владимир Короткевич называл Давид-Городок полесской Венецией, но дело не только в Горыни и ее лодках. Это единственный цветочный город в Беларуси, сродни большинству голландских — с их знаменитыми тюльпанами и розами. Впрочем, тут своя история и традиции… В 15-м веке этим диковинным для Полесья увлечением городчуков заразили пленные татары: с тех пор шесть месяцев в году древний город купается в цветах, оставшиеся полгода он ими торгует… — Издавна наш город славился производством цветочных семян. Их выращивали на каждом подворье. Это редкое искусство передавалось из поколения в поколение. Каждую весну город будто вымирал: местные жители разъезжались по Союзу с огромными тюками за спиной. Так земледельцы превращались в купцов, — говорит Николай Брезовский, руководитель музея истории Давид-Городка. – Новомодные магазины для дачников заметно потеснили вековой бизнес. Городчане вынуждены переходить на более востребованную продукцию – семена всевозможных овощей. Но те, кто, действительно, знает толк в цветах, по-прежнему едут сюда. В знаменитую полесскую Венецию.
…Эту дату в городе знает каждый школьник – 6 мая 1936 года. В тот день все были на богослужении, когда вспыхнул страшный пожар. Сгорели сотни деревянных домов и Воскресенская церковь на Замковой горе. Потужили и решили отстроить новый храм, каменный. Во время подготовительных работ на глубине 4—5 метров строители нашли древнюю усыпальницу, а в ней — 13 дубовых гробов. Вскоре археологи извлекли на поверхность еще 12 саркофагов, в нескольких местах наткнувшись на остатки города 12-го века. Сомнений не оставалось: это княжеская усыпальница, семейный склеп потомков князя Давида. Сенсационная новость вмиг облетела Беларусь. Находки нескольких научных экспедиций пролили свет на то, чем занимались жители древнего Давид-Городка: они были кузнецами, гончарами, бондарями, ткачами, резчиками по дереву и кости. Ловили на продажу рыбу и строили лодки… Однако даже сегодня Замковая гора изучена меньше, чем на треть. Куда вели тайные подземные ходы княжеского замка? Где они сейчас? Древнее замчище по-прежнему хранит свои тайны.